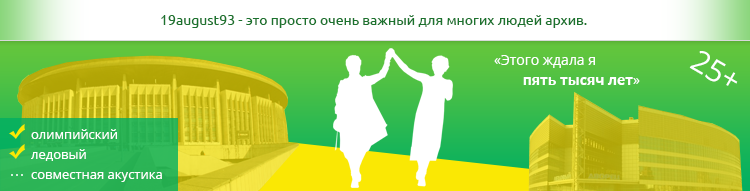|
|  | |
 |
Случайно обнаружена заметка о выпуске в Калининграде сборника работ, анализирующих тексты поэтов русского рока.
Среди статей, в частности, перечислены следующие:
________________________
Малеваная-Митарджян Д.А. «Неужели не я» С. Сургановой: Попытка авторской самоидентификации.
Галичева Т.О. Семантика цвета в рок-поэзии Д. Арбениной (группа «Ночные снайперы»).
________________________
http://textman1.livejournal.com/67718.html
Если у кого-нибудь есть возможность приобрести эту книжку - поделитесь информацией, пожалуйста.
Фанни |
 |
здесь нет никого из Калининграда? |
 |
Д. А. Малеваная-Митарджнн
(Калининград)
«НЕУЖЕЛИ НЕ Я» С. СУРГАНОВОЙ: ПОПЫТКА АВТОРСКОЙ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Предложена интерпретация альбома Светланы
Сургановой «Неужели не я» (2003), являющегося пер¬вым самостоятельным творческим опытом
(и успе¬хом) рок-группы «Сурганова и оркестр».
«А был ли мальчик?» Этот вопрос продолжает тревожить умы всех, кто так или иначе обращается к идейным основам творчества группы «Ночные снайперы», а с апреля 2003 года - и ее alter ego и протагониста «Сургановой и оркестра». Слишком очевидная, тема нетрадиционной любви заслоняет собой (как это ни парадоксально») то, что должна, напротив, раскрывать, - проблему самоидентификации человека на самом высоком уровне бытия. Проблему поиска и выбора себя и отношений с миром, которая рано или поздно встает перед каждым человеком. И если этот человек совершенно свободен от шаблонов поведения, навязываемых ему социумом, остава¬ясь при всем человеком страдающим и сострадающим, то его попытка обрести себя имеет право рассматриваться не только в том ракурсе, который лежит на поверхности.
Дебютный альбом группы С. Сургановой «Неужели не я» (2003) составляют 15 композиций . В одном из интервью С. Сурганова заметила, что в данном случае «"альбом" - условное название. Это сборник песен за последние 12 лет» , и пояс¬нила: «Я убеждена, что нужно избавляться от накопившегося материала. У меня в загашнике есть еще песен 50, чтобы про-должить... Может, потом и займусь чем-то новым» . Таким образом, альбом является «чем-то новым» только для слуша¬телей, да и то лишь постольку, поскольку отдельные компози¬ции ранее уже входили в альбомы «Ночных снайперов»: «Мой взгляд» («Пороховая») - в альбом «Капля дегтя / В бочке меда» (1998), «Птицы» - в «Детский лепет» (1999). Для самой Сургановой это, скорее, концентрация ее творчества за послед¬нее десятилетие, но не просто «сборник», а отобранные из не¬малого количества тексты, скомпонованные определенным образом в контекст, воплощающий авторскую концепцию.
При том что большая часть текстов принадлежит Сургано¬вой, в альбом вошли три «чужих» текста: две песни написаны на слова современных питерских авторов («Обещанный снег» - на стихи Т. Хмельник, «Была мечта» - В. Смирнова), а заключительная, давшая название альбому - на стихи пи¬терца же (ленинградца) Иосифа Бродского. Заметно и явление автоинтертекстуальности: «Апрельская» (2) становится «Ап¬рельской посевной» (11), будучи исполнена в другом составе и обернувшись самопародией, иронией на музыкальном / ис¬полнительском уровне над экспрессивностью текста.
Самоирония - один из конструктивных принципов аль¬бома, способов выражения авторского взгляда на мир. Наибо¬лее ярко она проявляется в музыкальном / исполнительском компоненте, в стилистической пестроте альбома, которая в целом создает «эффект мозаики», являющийся специфической чертой стиля «Сургановой и оркестра». При пристальном же рассмотрении каждое соприкосновение стилистически чуже¬родных «кусочков» отмечает момент перехода лирического субъекта из одного состояния в другое.
Так, песня «Мой взгляд» (5), описывающая состояние пус¬тоты, одиночества, завершается легкой кодой в стиле босановы. В коду вливается хор, повторяющий последнюю строч¬ку («Не покинет»), что придает этим словам комический отте¬нок, а точку композиции ставит финальный смех музыкантов группы Сургановой. При этом в 8-й песне, «Предчувствие смерти», элементы латиноамериканского подвижного танца в коде не несут на себе подобной смысловой нагрузки, напротив, они динамизируют композицию, в буквальном смысле устремляющуюся «с крыши».
В 9-й песне («По дороге») куплетам, где декларируется избавление лирического субъекта от боли через иронию, противоречит рефрен:
Я иду по дороге. Мне светит солнце.
И нет больше туч в моей голове.
Я иду по дороге. Звонкие травы
улыбаются ветру, ветру и мне.
Но боль моя - разлука, и соль - твоя вода.
но боль моя - разлука, и соль - твоя вода.
Молочный рассвет вдыхаю на палубе,
и нежится пена на гребне волны.
Волнуюсь и жду, мой ветренно-сказочный.
С кем ты теперь раздуваешь костры?
Но боль моя - разлука, и соль - твоя вода.
но боль моя - разлука, и соль - твоя вода.
Такое даже на небе случается:
падают звезды, бледнеет луна.
Если дождусь, скажу тебе «здравствуй» я,
не покидай так надолго меня.
Но боль моя - разлука, и соль - твоя вода.
Однако искренность рефрена снимается в финале трансформацией последнего слова «вода» («и соль – твоя вода») в убежденное «да-да-да», сопровождающееся смехом и переходящее в утверждение «Да!»
Смысл текста 10-й композиции («Друг для друга») снованесколько снижается проигрышами с участием смешанного женско-мужского хора, где голоса женские и мужские словно представляют двух участников сюжета песни, рисующего все стадии любви.
Наконец, в 13-ю песню - «Февральский ветер» - втор¬гаются вариации на тему русских «Коробейников», в финале которых совсем уж неожиданно появляется мотив детского «Кузнечика». Так реализуется принцип импровизации (один из основных на музыкальном уровне для этого альбома), но в то же время смешение стилей расставляет свои смысловые акценты и подает эту «театральную» песню с серьезными во¬просами - как легкую игру, фарс, где эти вопросы решаются в духе «Кузнечика».
И так весь альбом слагается из контрастных, противоречи¬вых кусков, как огромная мозаика: Я - и не-Я, игра - и правда, притворство - искренность, маскарадная мишура - и прорывающийся сквозь нее крик живой души, молящей об избавлении от одиночества. Он-то и есть правда, которая по¬началу ощущается слушателем как актерство, поскольку при-крывается постоянной самоиронией. Последняя же, кажется, необходима Сургановой главным образом для того, чтобы избежать страшных открытий того сложного в мире, понять которое она так стремится; но всякий раз, оказываясь почти лицом к лицу с правдой, которая видится страшной из-за не¬знания ее сути, она в испуге закрывает глаза, сама же замечая эту свою слабость: «а я, подобие слабой улитки, прячусь за рифмы, бегу за улыбки» («Предчувствие смерти»). Этот испуг сродни страху рыбака перед Женщиной-Скелетом, о котором пишет К. П. Эстес в исследовании архетипа женщины «Бегу¬щая с волками» . Таково сложное соотношение в альбоме того словами самой Сургановой можно определить как «скитанье от "верю" к "не верю" - и наоборот» («Птицы»).
Однако и мозаичное панно остается единой картиной, со своими героями, сюжетом и композицией . Художественный мир альбома разворачивается с каждой песней как целост¬ность, раскрывается в развитии многомерного циклового сю¬жета, выстроенного авторским расположением песен. Основ¬ные образы, сюжеты и вся «мифология» альбома (см. прилож.) - достаточно традиционные и, пожалуй, даже единственные для всего женского творчества. Два героя - Я и Ты, сюжет один: любовь. Любовь как спасение, лекарство от одиночества, Ты - как врач, способный и излечить, и погубить: «не тобой болеет сердце» (1), «день прожить, тебя не видеть - словно чашу яда выпить» (2), «глаза, разлукой уставшие» (3), «больно твое отсутствие весной, жизнь» - отсутствие жизни (люби¬мых) становится болью (7), «но боль моя - разлука, и соль - твоя вода» (9), «рядом с тобой забываешь о боли» (13). Раз¬лука, одиночество, оставленность, предательство, смерть лю¬бимого - все это боль, она отнимает силы, камнем тянет вниз и не дает лететь («и нет уж сил лететь с тобой мне, боль»), а лирическая героиня, как любая женщина, рождена для полета : «ей должно летать». Тема полета (который становится сино¬нимом свободы и творчества), невозможного во всей его пол-ноте, - ведущая тема альбома. Равно как и тема полноты любви, также нереализуемой. «Апрельская», стоящая в начале альбома, предстает как воспоминание, прекрасное, яркое, чув¬ственное, своего рода предыстория, поскольку преобладаю¬щим временем года в альбоме становится зима (а если весна, то чаще одинокая - 6, 7). И хотя в песнях «Была мечта» (12) и «Обещанный снег» (4) любовь предстает как высшая цен¬ность, которая никогда не изнашивается, ибо к ней нельзя привыкнуть (12), а спасение от холода-одиночества видится возможным в совместном творчестве - надо только «пере¬плавить огарки прожитых дней в большую свечу», которая согреет (4), - но тексты этих двух песен принадлежат не Сургановой и, кажется, нужны ей для того, чтобы оттенить собст¬венное мировидение . Для Сургановой больше характерна поэтика разрыва. И проблематика разрыва. Углублен он будет или преодолен? Ответ на этот вопрос лежит в самой организа¬ции альбома.
Цикловой сюжет альбома структурирован достаточно четко. В первых трех песнях лирический субъект (микрокосм) описы¬вается в образах, категориях макрокосма: «и пойдет по горлу ветер», «пустыня горла, соль ресниц», «ты мое дыхание обла¬ком белым возьми... нотой несмелой... стаями птиц очарован¬ных возьми». Основная функция этого лирического мира - песня-дыхание, воплощенная в образах ветра и птиц (горло соотносится, опять же, с птичьим поющим горлом). Эти образы связывает общее действие - полет. Причем в песне «Ты мое дыхание» (3) как мир предстает уже Ты, а лирическая героиня стремится раствориться в нем (и таким образом стать им). Здесь же впервые эксплицитно - на лексическом уровне — появля¬ется мотив полета («рожденной летать... должно летать»).
Но уже следующая песня («чужой» текст, на слова Т. Хмельник) представляет иную ситуацию: пространство су¬жается до пределов дома, где от зимы укрылись Я и Ты. В этом тексте провозглашается возможность стать Мы (путем совместного творчества), которая выражена в форме обращения-просьбы лирической героини: «Давай переплавим огарки прожитых дней в большую свечу» - а значит, направлена в будущее и, следовательно, пока не реализована.
Однако в последующих четырех песнях воплощается совершенно иная модель отношений: одиночество, боль пустота осиротевшего дома-души - как неизменная данность, неразрешающееся состояние (5 «Мой взгляд» и 7 «Боль») или как переживаемая лирическим субъектом ситуация расставания (6 «Мураками»). Намеченный в песне «Боль» мотив гибели любимого человека («закрытые глаза») становится полноп¬равной темой следующего текста - «Предчувствие смерти», где лирическая героиня, горько иронизируя над своей само¬иронией («а я, подобие слабой улитки, прячусь за рифмы, бегу за улыбки»), освобождается от нее, давая волю искреннему проявлению своих страхов и чувств, не загоняя свою душу в рамки насмешки-отстранения.
Но дойдя до этой критической точки, она словно одумыва¬ется и вновь возвращается к самоиронии, с которой живется легче, и вновь - к восприятию себя в категориях макрокосма («мне светит солнце, и нет больше туч в моей голове»), в который она вышла из замкнутого пространства дома самым радикальным образом - через крышу. И расставание теперь - даже «не повод для вражды»: в песне «Друг для друга (10) дан легкий взгляд на ушедшую любовь - чуть отстраненно, со светлой иронией. Сама любовь видится как тотальное не¬понимание друг друга («мы слышали друг друга чуть больше, чем глухие»), а включенная в предфинальный контекст «чу¬жая» песня - «Была мечта», где есть это взаимное движение двух людей («Была мечта увидеть... твои глаза... Мечта сбы¬лась: рассветной ранью твои глаза нашли меня»), лишь усили¬вает контраст. Внешне это непонимание выглядит как спек¬такль, пасьянс, в котором герои перетасованы чьей-то равно¬душной рукой («так странно день растащил по углам...»), а человек раздваивается на 1-е и 2-е лицо - «...тебя и его, ее и меня». Некая игра, фантазия, или сон, который, опять-таки, свой у каждого («и всяк о своем досматривал сны»)… И блудающие среди этих снов «певчие птицы» - неприкаянные души человеческие, чей «свободный полет» «так похож на скитанье». Предпоследняя песня альбома - «Птицы» на му¬зыкальном уровне предстает как фрагмент рок-оперы, чья тек¬стовая составляющая осваивает цветаевский троп «душа-птица» со всей его атрибутикой (чердачная пыль, золото кле-точных спиц) и содержательной доминантой «и если свободы - то не на двоих». Лирическая героиня занимает здесь пози¬цию отстраненного наблюдателя, которая позволяет ей спро¬сить себя: «Что гонит вас в путь?» - и не дать ответа, по¬скольку на это способен только субъект, а Сурганова превра¬щает его в объект. И ей остается сделать лишь последний шаг, чтобы окончательно нивелировать себя - обратиться к тексту Бродского .
Из 21 строфы стихотворения Бродского «От окраины к центру» (1962) Сурганова выбирает шесть, по-своему их ком¬понует (изменяя порядок в конце) и создает таким образом из чужого текста свой, резюмирующий весь альбом. Текст дейст¬вительно становится «своим», поскольку, выпустив первую часть стихотворения Бродского, Сурганова «отсекает» и тот путь, каким поэт пришел к завершающим его вопросам и вы¬водам. Выпущенные строфы замещены предыдущими тек¬стами альбома, вследствие чего и выводы относятся уже к ним, становясь выводами «о другом». Все детали, все описательные фрагменты возвращения-невозвращения Бродского в Ленинград его юности остаются «за текстом» - потому, веро¬ятно там же остались и 17-19-я, а также 21-я строфы, запол¬ненные деталями, существенными для Бродского, но выби¬вающимися из контекста альбома Сургановой, в ткань кото¬рого органично вплетаются другие образы и мотивы этого стихотворения: фонари, связывающие песню с «Февральским ветром» и «Птицами», зима как основное время альбома, образ Ты (в прямом своем значении и как синоним Я), мотив раз¬луки-расставания. И сам результат пути поэта - понимание невозможности вернуться в прошлое полностью и в то же время ощущение как трагического блага возвращения «от¬части» (через «грусть» от напоминающих реалий) - этот ре¬зультат, удаленный Сургановой вместе с заключительной строфой стихотворения, подменяется разрушительной фи¬нальной инверсией двух предпоследних его строф Бродского при полном исключении последней.
Разрушительной эту инверсию можно считать сразу по двум параметрам: во-первых, в плане художественного вре¬мени (в результате изменения последовательности строф в сильной позиции оказывается образ зимы - основного вре¬мени альбома), а во-вторых, на уровне субъекта. Сурганова полемизирует с предыдущими текстами альбома - с самой собой, провозглашая благо отстранения и омертвения чело¬века: «Значит, нету разлук. // Значит, зря мы просили прощенья // у своих мертвецов» → «Как легко мне теперь, // оттого, что ни с кем не расстался» → и вечная зима. К этому результату она шла изначально (каждый новый шаг на пути к нему отме¬чен самоиронией в том или ином компоненте текста) а к кон¬цу альбома отстранение захватило и уровень субъекта. В «Не¬ужели не я» оно принимает гораздо более болезненную фор-му, чем в предшествовавших «Птицах». Нейтрально-спокойная форма 2-го лица вы в обращении к певчим птицам, в об¬разе которых воплощена сущность лирической героини, обо¬рачивается в последней строфе «Неужели не я» внезапным Ты на месте Я (выдержанного во всем тексте) - минутным раздвоен¬ием измучившегося болью, оказавшегося в тупике лирического героя, ясно осознавшего этот тупик в заключительных словах песни (и всего альбома):
Не жилец этих мест,
не мертвец, а какой-то посредник,
совершенно один, ты кричишь о себе напоследок:
никого не узнал,
обознался, забыл, обманулся,
слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.
Резкое смещение в плане лица создает смысловой сбой, отра¬жающий пограничность состояния «посредника» - внутрен¬него состояния лирического субъекта, находящегося на пороге раздвоения, поскольку порог боли - перейден. Глаголы с семантикой отрицания действия, несущие ее в своем лексиче¬ском значении или в отрицательной частице не, увеличивают свою концентрацию на протяжении песни и усиливают эффект разрушения мира, который пыталась выстроить Сурганова, и ее лирического героя, пришедшего к полному отрицанию су¬ществования основ мира - любви, памяти, возвращения. Мир уничтожен обратным движением героя, который в процессе возвращения стирает прошлое, сводя его к «никуда».
Уничтожение мира в немалой степени обусловлено особенностями его пространственной организации и становится возможным благодаря взаимосвязи внешнего пространства и внутреннего мира лирического субъекта, в которой доминирует внешний мир. Если в первых текстах альбома субъект уподоблен естественному природному пространству и растворяется / стремится в нем, преобразуя свое внутреннее пространство по законам гармоничного внешнего, то позже, с появлением топосов дома и города, внутренний мир лирического субъекта трансформируется по их законам, утрачивая черты природного мира. Замкнутость пространства дома (доминирующего в 4, 5, 7, 8 и 13-й песнях) становится и изначальной причиной замыкания внутреннего мира лирического субъекта, и вместе с тем образным воплощением его неспособности избавиться от одиночества или разрешить трудности в отношениях с Ты, при этом временами провоцируя выход героя в оппозиционное пространство города. В «Мураками» такой выход является своего рода реакцией на герметичность мира безысходного ожидания, описываемого в предыдущей песне «Мой взгляд», а в «Февральском ветре» наблюдается последовательная смена пространств дома и города в поиске наиболее подходящего для разрешения противоречий любви.
Топос города на протяжении почти всего альбома, напро¬тив, проявляет себя весьма скромно, опредмсчиваясь лишь дважды. Однако при этом в «Мураками» «мокрый город» вы¬ступает всего лишь как отражение состояния и порыва ге¬роини, а в песне «Друг для друга» (10), будучи местом развер¬тывания любовного сюжета, совершенно утрачивает реальные черты благодаря реализации в таких «неземных» образах, как «мосты» и «троллейбус, идущий на восток» . Но далее при¬родный мир, куда лирический субъект вновь вернулся из тес¬ного пространства дома и своей боли (9 «Я иду по дороге»), теряет с усилением отстраненности субъекта свою ведущую роль, «ослабляется» и незаметно уступает место этому локусу, обладающему социальной природой. В «Февральском ветре» ночной город, в котором безошибочно угадывается родной для Сургановой Петербург, персонифицируется, становясь одним из героев песни, но даже его благожелательное отношение к Я и Ты не спасает их от разъединенности. В «Птицах» свободное и вместе с тем предначертанное скитание из города в город характеризует городской локус как протраство неукоренности, пространство разомкнутое и этим побуждающее к движению - внутри него и за его пределы. В отдельных деталях вновь просматриваются черты Петербурга, рукотворного и упорядоченного («в роскошь безлюдных и вымытых улиц, // в строгость каналов и площадей»). И наконец, Ленинград Брод¬ского окончательно связывает финал альбома с этим городом и с «петербургским текстом», который, со своей стороны, также предопределяет трагическое разрешение пространст¬венного сюжета «Я - город». Во внутреннем мире лириче¬ского субъекта проекцией Ленинграда / Петербурга, - города «с этой вечной рекой», но где «что-то... навсегда изменилось» и будет дальше поглощаться временем, - является утрата прошлого, а с ним и настоящего, утрата лирическим субъек¬том самого себя.
Такое резкое усиление пространства города (до того вто¬ричного) в финале альбома, подготовленное единичными его проявлениями в предшествующих текстах, становится и при¬чиной, и отражением той критической точки отрицания, к ко¬торой на протяжении всего цикла шел его лирический субъект.
Итак, самоопределение не состоялось. А точнее, состоя¬лось, но как его противоположность - самоидентификация через самоуничтожение. При всем богатстве душевного мира, его неоспоримой зрелости и огромном потенциале у лириче¬ской героини С. Сургановой не оказалось самого главного - того внутреннего волевого стержня, который помог бы ей вы-строить свои отношения с миром с позиций активного и само¬ценного субъекта. Мир довлеет над слабой душой, свойства окружающего пространства оказываются сильнее свойств внутреннего мира и навязывают ему свои состояния помимо воли лирического субъекта, который если и способен вырваться из замкнутого круга, то только для того, чтобы тотчас попасть в следующий круг. Ожидание, прощание, скитание длятся бесконечно, словно предначертанные свыше, а «спасительная» самоирония в итоге губит. |
 |
Т. О. Галичева
(Калининград)
СЕМАНТИКА ЦВЕТА
В РОК-ПОЭЗИИ Д. АРБЕНИНОЙ
(ГРУППА «НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»)
Рассматривается поэтическая семантика прилагательных со значением цвета «белый», «черный», «красный» в текстах Д. Арбениной из альбомов группы «Ночные снайперы» 1998-2006 годов.
В текстах Дианы Арбениной цвет, его символика и цветовая картина мира играют первостепенную роль. И дело здесь не только в яркости или количестве красок, а в семантике которую они несут, выражая порой те сокровенные мысли и чувства автора, о которых она не в силах молчать, но и не хо¬чет сказать прямо. О важности самой категории цвета в стихах Арбениной можно судить по таким строчкам: «будет ночь бить в немое стекло // разноцветным ветром ломая цветы», «горсти забвения цвет неприкаянный», «я люблю того, кто видит мой цвет»; в решающий и трагический момент жизни ее героиня восклицает: «и полотно травы // твоим глазам вуаль // но цвет уже не различить» …
Объектом нашего исследования стали только тексты песен Арбениной из всех официально изданных на сегодняшний день альбомов группы «Ночные снайперы»: «Капля дегтя / В бочке меда» (1998), «Детский лепет» (1999), «Рубеж» (2001), «Цунами» (2002), «Тригонометрия» (2003), «SMS» (2004), «Тригонометрия-2» (2005), «Koshika» (2006). Кроме того, мы ограничим непосредственный материал прилагательными со значением цвета.
Слова такого рода в песенном творчестве Арбениной мно¬гочисленны и разнообразны: черный встречается 33 раза, белый - 35 раз, красный -13, зеленый - 8, голубой - 8, чер¬но-белый - 5, золотой - 6, алмазный - 5, желтый - 2, си¬ний - 3, темно-синий - 2, прозрачный - 2, малахитовый - 1, изумрудный - 1, ярко-изумрудный - 1, вишневый - 1, ро¬зовый - 1, светлый - 5, темный - 13, серый - 1, седой - 1, белоснежный - 1, бледный - 1, алый - 1, кирпичный - 1, янтарный - 1 и т. д. Цвета, упоминаемые в песнях Арбени¬ной лишь однажды, являются в ее художественном мире опре¬делениями особо важных предметов, понятий и часто отно¬сятся к некому адресату, к которому обращена речь, например: «малахитовых глаз не беда, а мольба». Кроме того, в своих песнях Арбенина употребляет и собственные цветовые обо¬значения: ядерно-солнечный - 1, цвет фламинго - 1, кри-стально черный - 1, безупречный цвет переспелой рябины - 1, цвет неприкаянный - 1. Эта группа цветов особенно экс¬прессивна и маркирована в художественном мире Арбениной. «Белый цвет, включающий все цвета спектра, является символом чистоты, невинности (как телесной, так и душевной, духовной), совершенства, универсальной силы, Абсолюта, обладает позитивной оценкой» . Но в восприятии лирической героини Арбениной он иногда (именно в ранний период творчества) имеет негативное значение, ассоциируясь, как и черый, со страхом, капитуляцией, холодностью и враждебностью, как, например, в песне «Только шум на реке»: «поплыву по воде среди белого льда // и лед будет биться о мои руки и плечи // и будет царапать мою шею и грудь...»
С другой стороны, белый цвет, как и черный, часто симво¬лизирует абсолютный покой, пустоту, отсутствие жизни, поэтому не случайно обилие белого в ранней песне «Я раскра¬шивал небо», где герой, видя пугающую его первозданность и пустоту чистого белого неба (за ним видится чистота, перво-зданность и пустота всего мира), хочет добавить в него краски. Но ему мешает присутствие некой загадочной тени:
я раскрашивал небо как мог
оно было белым как белый день
я лил столько краски на небеса
но не мог понять откуда там тень
это было в жаркий июльский день
когда болота горят
когда зажигается дом
от одного взгляда
И далее первые шесть строк повторятся еще трижды, доказы¬вая важность этих красок (точнее, их отсутствия) в сознании героя и художественном мире автора. Текст имеет модульную композицию: строится на основе повторов, но не рефрена (или припева в музыкальном произведении), а самого куплета; в каждой последующей строфе изменяется только предпо¬следний стих: сначала «...зажигается дом от одного взгляда», затем — город, мир и, наконец,«...зажигается всё от одного взгляда». Следовательно, герой песни пытается бороться с холодным и пустым белым цветом, разбавляет его красками, но ему мешает в этом тень, возможно, от горящих болот (тогда можно говорить и об имманентном присутствии в данном тексте темного цвета).
Являясь спутником смерти в культурах разных эпох, бе¬лый цвет и здесь проявляет свою амбивалентность. С одной стороны, это цвет траурных одежд, традиционно бесцветных и белых в Китае, Японии, в Древнем Риме и во всей Европе. В течение многих веков он означал не печаль, а посвящение в новую жизнь, ожидающую умершего. Такова семантика белого цвета в песне Арбениной «Только ты», хотя в ней и нет речи о начале новой жизни, белый здесь просто - знак свершившейся смерти, причем текст написан в будущем времени:
когда ты умрешь будет самый красивый закат
случатся все молнии грозы и все дожди
белее снега рубашкой накрою тебя
и снов пожелаю тебе самых крепких снов
С другой стороны, в христианской культуре это особый цвет: при преображении Христа «одежды... Его сделались белыми, как свет» (Мтф. 17: 2), это также цвет одежд Девы Марии на некоторых иконах (что символизирует чистоту и невинность), ангелов, священников для важнейших христианских праздников. У Арбениной также есть упоминание о бе¬лых одеждах, которые становятся в ее интерпретации симво¬лом начала новой жизни, не обязательно жизни после смерти, а просто другой, новой (например, вдали от любимого чело-века): «белые одежды надевай // волосы по плечи расти» («Парфюмерная», 1999).
Подобное значение белого цвета обнаруживается и в песне альбома «Тригонометрия-2» «Опасное лето» (2004), текст ко¬торой представляет собой размышление о пройденном жизненном пути, о дружбе, любви и предательстве и передает тоску Арбениной по новой, светлой, чистой жизни, символ которой видится ею в белой рубахе:
Ветер песни кружит, ветер песни крошит
Я меняю рубахи, а белой по-прежнему нет.
Таким образом, в творчестве Д. Арбениной отчетливо прослеживается мотив «белой рубахи», проходящий от первого альбома «Детский лепет» до последнего «Тригонометрия-2» и символизирующий новую, чистую жизнь.
Семантика черного в творчестве Арбениной является сложной и неоднозначной. Традиционно в сознании людей черный цвет, как и белый, символизирует абсолют, но в двух противоположных смыслах, то есть может выражать как абсолютную полноту, так и абсолютную пустоту, он часто служит для обозначения мрака, хаоса и смерти.
Так, песня с обманчиво-поэтичным заглавием «Вечер в Крыму» содержит размышления о самоубийстве:
отсутствие глаз на твоем лице
танцует на стене тень крошечной спички
мне тебя любимый не догнать уже
я рву связи и ломаю привычки
я наверное смогла бы уйти с тобой
выбросив горло в пролет окна
но ворот белой рубахи параллелен полоске
на распухшей шее
она так черна
Героиня хочет последовать за погибшим другом (упасть из окна или повеситься): «уйти... выбросив горло в пролет окна». Но «ворот белой рубахи» контрастирует с черным следом от веревки на шее любимого человека - зримость, осязаемость возможной и вроде бы желаемой смерти пугает и, следовательно, стимулирует жажду жизни (эти стихи повторяются в тексте трижды).
Сочетание черного и белого вообще очень характерно для творчества Д. Арбениной, особенно для альбома «Детский ле¬пет» (песни «Вечер в Крыму», «Черно-белый король», «Солн¬це», «Стерх и лебедь»), где белый и черный встречаются по девять раз, а черно-белый - 4 раза. Сочетая черный с белым, Арбенина усиливает и подчеркивает их основные значения, превращая данные цвета в особые знаки-символы. Белый цвет несет семантику чистоты, света, добра и т.д. А черный стано¬вится не только символом смерти, но и вообще знаком беды, разлуки, потери или какого-то зла, не имеющего имени. Ср.: «прощальных белых поцелуев след во мне // ты не вернешься // меня рисуют мелом на стене // ты не вернешься // и пролетают черные леса // успеть прикрыть бы спину // я рада: ты живой пока // я не предам я не покину» («Зву-чи!», альбом «Цунами»); и в песне «Столица» из того же альбома: «я покидаю столицу // раненой птицей // выжженным небом // черной травой».
Антонимический образный ряд черного - белого, воз¬можно, первоначально наметился в творчестве Светланы Сур-гановой, второй участницы дуэта «Ночные снайперы», поэзия которой, вероятно, оказала влияние на Д. Арбенину. Белый цвет превалирует у Сургановой над другими цветами. Она любит контрасты и нередко сопоставляет белый с черным или темным: «а город крошился на черном и белом // пуская в себя сок отравленных дней» («Так начинался день»); «белые люди в темных аллеях // как вас немного тут» («Белые люди»). Од¬нако у Сургановой контраст носит скорее орнаментальный, нежели символический характер, и семантическая связь черного / белого со 'смертью' прослеживается не столь явно и регулярно, как у Арбениной.
Черный цвет в текстах Арбениной связан также с темой однополой любви. Самым ярким примером здесь может по¬служить песня «Черное солнце:
это не франция это окраина питера
адреналин разбавляет мутные сумерки
темные девочки вяжут морскими канатами
вяжут морскими узлами души свои
черное солнце мне страшно
мне страшно здесь видеть тебя
я чувствую горький запах
ты поджигаешь ладони
черное солнце горит горит
под нами земля
останься на небе
не надо
останься на небе
останься
это не швеция это по невскому вечером
пальцев капканы навстречу прохожие хмурые
темные девы целуются под циферблатами
странные пары в несчастной жестокой стране.
здесь не Голландия здесь безысходная балтика
будущее остывает в окрестностях питера
темные дамы порхают над вязкими топями
и костенеют в болотах уже навсегда
На субкультурном сленге, «быть темой значит «придерживаться гомосексуальной ориентации». В песне «Черное солнце» данная лексема повторяется трижды. Для Арбениной существенно паронимическое созвучие слов «темный» и «тёмный», «тёмный» же ассоциируется с черным, а значение черного в этом тексте зафиксировано самим заглавием: перверсное, с апокалиптическим оттенком. Этот смысл подтверждается и текстом в целом.
В противовес значению «солнца» как символа жизни образ «черного солнца» становиться эсхатологическим символом разрушения, деградации, духовной смерти, и значит, тема чер¬ного маркирует однополую любовь как духовно разрушитель¬ную. В образном ассоциативном ряду «черный - тёмный - темный» каждый член семантически вмещает и два других.
Стих «черное солнце, мне страшно здесь видеть тебя» можно прочесть как обращение к небесному светилу или к дорогому человеку, женщине, попавшей в капканы «темных дев». Но в любом случае оценка ситуации негативная. Гомо-сексуальная любовь безысходна, подобна «болоту». Об этом и говорит припев - обращение к любимому или просто доро¬гому для автора человеку, другу (пол определен, но не суще¬ствен в данном случае) с чувством глубокого сожаления о том, что он/она «костенеет в болотах», с просьбой, с настойчивой мольбой «останься на небе, не надо», то есть останься чистым, идеальным, не умирай духовно .
Песня «Стерх и лебедь» представляет собой монолог ге¬роини о безответной, нереализованной любви, результат кото¬рой - разлука двух людей и смерть обоих:
я с тобой была счастлива
видела небо и видела крыши
и были чисты мои руки в темную ночь
кто-то приказал развести мосты
на одном берегу умирал черный стерх
на другом танцевал белый лебедь
теряя крылья
навсегда навсегда
«Белый лебедь», как известно, символ сложный и многозначный, который может означать многие понятия: от тайны до любви, поэзии и смерти. По распространенной легенде, лебедь поет лишь однажды - перед смертью, а если вспом¬нить широко известный в мировой культуре мотив плясок смерти, то не исключено, что танец лебедя означает у Арбени¬ной именно прощальную или предсмертную песню. «Стерх» же - «белый журавль» . Давая слову «стерх» определение «черный», Диана Арбенина (кстати, филолог по образованию) сталкивает черный и белый как цветовые антонимы, создает ок¬сюморон, который позволяет прочесть ее текст следующим обра¬зом: «на одном берегу умирал черно-белый стерх (журавль) / на другом танцевал (умирал?) белый лебедь». Значит, в песне Арбе¬ниной аномальный образ белой птицы, ставшей черной, превра¬щается в символ погубленной, умирающей души.
Для Д. Арбениной характерно не только уподобление чувств героини природным явлениям (например, сравнение с птицами), но и отождествление себя, своего лириче¬ского «я» с птицей: «Я покидаю столицу раненой птицей» («Столица»), «Я редкая птица, я вышла из дома» («Редкая птица»), песня «Страха нет» и, конечно, песня «Стерх и ле¬бедь», где две птицы символизируют лирическую героиню и ее адресата. Очевидно, объект любви в сознании героини - это белый лебедь, что подчеркивает не просто его красоту и благородство, но и идеальность, даже святость в противовес очерненной погибающей душе лирической героини («черный стерх»). Песня кончается словами «а на дне черный стерх бе¬лый лебедь уснули навсегда навсегда» - и субъект, и объект любви не просто умирают от невозможности соединения, так как чувство остается безответным, но гибнут духовно, лириче¬ская героиня впадает в сон, так как без любимого человека ей не жить (да и с ним тоже) .
Чрезвычайно интересным видится сочетание цветов и их оттенков в ранней песне Д. Арбениной «Завоюй меня»:
Белые флаги на башнях моего города
в городе моем пусто и холодно
в светлой комнате давно идет дождь
хорошо что ты не идешь
Припев:
завоюй меня
завоюй меня
от первых шагов до последнего дня
от тепла до сгоревшего в пепле огня
завоюй меня
красные флаги на башнях моего старения
тонкий вкус вечеров с попытками зрения
но расстояний суть такова
что верность без тела мертва
черные флаги на башнях моей святости
дерево вечной тоски без плодов и радости
в пыльных окнах покинутый взгляд
асфальт без дороги назад
а когда все флаги на башнях станут тёмно-синими
мы с тобой улетим в небеса тревожно-бессильные
но если закончен путь без конца
к чему откровенность лица
В чувственном мире лирической героини идет борьба. Сначала белый цвет (а также «светлая комната») свидетельст¬вуют о чистоте героини, ее непорочности (в сердце ее нет любви), и одновременно белые флаги на башнях ее города говорят о ее готовности покориться тому, кто стремится ее завоевать. Далее красный цвет (который, как будет сказано чуть ниже, часто ассоциируется у Арбениной с возрастом) говорит о бегущем времени и о стремлении героини жить в полную силу чувств. Наконец она завоевана, и тогда появляются черные флаги, так как святость и чистота ее убиты односторон¬ним чувством. Но тёмно-синие флаги в самом конце песни, за¬ключительный символ в данной цветовой парадигме - это знак божественного и вечного, куда уйдет лирическая героиня и ее адресат-завоеватель («мы с тобой улетим в небеса тревожно-бес¬сильные») и, следовательно, все человеческие страсти, радости и потери в восприятии героини останутся в этом, земном мире, несравнимом с высшими, небесными силами.
Следующий за черным и белым по частотности в текстах Арбениной - красный цвет. Традиционно он представляется как агрессивный, жизненный, исполненный силы, обозначаю¬щий как любовь, так и смертельную борьбу, то есть может сим¬волизировать как жизнь, так и смерть. У Арбениной красный (и его оттенки) присутствует, когда речь идет: 1) о возрасте: («красный цвет не в упрек годам», «красные флаги на башнях моего старения»); 2) о любви: «целовать тебя в шею // оста¬ваться следами // безупречного цвета // переспелой рябины»; в том числе в этом случае красный часто ассоциируется у автора со светофором: «я полюбила красный свет, // я разлюбила ти¬шину // несу тебе себя одну» («Светофоры»); 3) о крови, - как синоним слова «кровь» красный может одновременно символи¬зировать жизнь или смерть (это в особенности характерно для альбома «Цунами»): «удивительно как много крови во мне // никому не отдать кровь моя не в цене», «по юному красному насту // уже без тебя не поход»; или в песне «Россия 37»: «Олег Кошевой кашляет кровью // и дни его сочтены», «выстрел уло¬жит нас рядом // на красном прозрачном льду».
* * *
Преобладание черного и белого цветов в песнях Дианы Арбениной вовсе не означает, что мир, видимый и создавае¬мый ею, полностью окрашен в черно-белые тона. Напротив, он соткан из ярких красок; эксплицитное присутствие какого-либо цвета вообще характерно для песен Арбениной 1990-х годов. Но семантика доминирующих цветов - черного и белого свидетельствует, что предметы, определяемые ими, относятся прежде всего не к окружению, а к внутреннему ми¬ру лирической героини (или героя, если где текст написан от мужского лица). У Арбениной семантика этих цветов большей частью традиционна: белый - значит чистый, светлый, не¬винный или просто значит жизнь и добро, тогда как черный - сопровождает беду, потерю, разлуку, духовную или физиче¬скую смерть или другое, не имеющее даже имени зло; более того, частое сочетание черного и белого цветов усиливает и подчеркивает их основные значения, придает ситуации драма-тизм, будто доводя семантику цветов до абсолюта.
Но для песен Арбениной характерны и сугубо авторские, индивидуальные поэтические семантизации особенности цве-тообозначений:
- мотив белой рубахи, амбивалентно соединяющий тему смерти с жаждой обновленной и просветленной жизни;
- семантизация тёмного как особой разновидности чер¬ного, которая в сознании автора оценочна и связана с «тем¬ным» явлением;
- красный как символ возраста.
Кроме того, семантика основных цветов характеризует душевное состояние героини Д. Арбениной, обозначает дви¬жущие ею силы. Это прежде всего любовь, страсть, принося¬щие ей счастье и страдание, жажда жизни по законам добра, назло всем потерям. Героиня Арбениной стремится к полноте жизни, но часто, познавая реальность, отдаваясь ложным чув¬ствам, сталкиваясь с предательством, испытывая боль, тоскует по новой светлой, чистой жизни, символом которой становится белый цвет, почти недостижимый идеал в ее мрачном и темном контексте.
|
 |
Огромное спасибо! Замечательно, что эти статьи нашлись :) |
 |
Спасибо вам огромное!!! |
 |
Неспециалисту в филологии все подобные работы кажутся умными и серьезными ...Терминология просто сшибает с ног(((
Фанни, как ФИЛОЛОГ, дайте, пожалуйста, свое экспертное заключение по обнародованным статьям!
|
 |
Постараюсь обязательно :)
Просто сама еще толком не успела прочитать... |
 |
всегда пожалста! :)) |
|